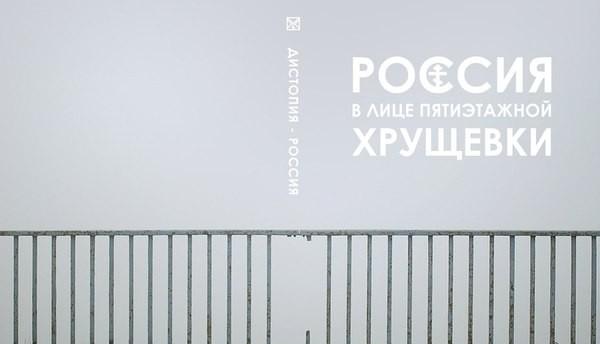 «Россия в лице пятиэтажной хрущёвки» – это и «Путешествие на край ночи», и «Кому на Руси жить хорошо», и, если угодно, – «Корабль дураков». По мнению одного из авторов, это блуждание по кругам дантовского ада. Как ни назови, а читается свежо, драйвово и охуительно. Америк ребята не открывают (да и кому это надо?!), но вырабатывают свой способ существования и выживания в «этом безумном безумном безумном мире». Эрих Фромм завещал нам открывать всё открытое заново для себя. Попытаться оседлать яблоко и укусить велосипед, как говаривал герой кустуриевской «Arizona dream» Аксель Роуз. Это меня убеждает снова и снова в том, что из провинции видны всё те же звёзды и галактики, как видны из столиц — помойки, собаки, алкаши, «постоянство грязи и веселья», мракобесие, беспросветные будни, пресловутые чады кутежа.
«Россия в лице пятиэтажной хрущёвки» – это и «Путешествие на край ночи», и «Кому на Руси жить хорошо», и, если угодно, – «Корабль дураков». По мнению одного из авторов, это блуждание по кругам дантовского ада. Как ни назови, а читается свежо, драйвово и охуительно. Америк ребята не открывают (да и кому это надо?!), но вырабатывают свой способ существования и выживания в «этом безумном безумном безумном мире». Эрих Фромм завещал нам открывать всё открытое заново для себя. Попытаться оседлать яблоко и укусить велосипед, как говаривал герой кустуриевской «Arizona dream» Аксель Роуз. Это меня убеждает снова и снова в том, что из провинции видны всё те же звёзды и галактики, как видны из столиц — помойки, собаки, алкаши, «постоянство грязи и веселья», мракобесие, беспросветные будни, пресловутые чады кутежа.
Важно лишь иметь глаза, а лучше – «волшебную голову», чтобы, дистанцировавшись, зафиксировать или перековать в художественные образы всё это.
Более того. Не в провинции дело.
Что тут сказать – авторы лишили меня, бедолагу, сна в одну из прошлонедельных ночей. Пролистывал себе журнал «Dystopia» и наткнулся на сие детище «двух бородачей». Нет, никаких откровений я не словил и не сказать, что это стало «глотком свежего воздуха» и прочего бла-бла-бла. Но… я узрел «Своих».
«Ну, – думал, – загляну, листну пару страничек». Но, услышав в голосах авторов обертоны Э. Бёрджесса (у Данилы Блюза) и Вен. Ерофеева, Генри Миллера (про Х. Томпсона и Ч. Буковски промолчу – трюизм); есть там и прямая отсылка ко «Дню опричника» Владимира Сорокина. Я не буду говорить, где – сами найдёте. Да можно кого угодно тут встретить, чьи угодно голоса. Это не важно. Тем более, что, вероятно, это просто галлюцинации.
Начинается книга с экскурса в гонзо-краеведение, где мощный почин даёт Вермутов, затем Блюз подливает в печку маслица в виде откровенной мюнхгаузеновщины и неприкрытой хармсиады.
Вообще, структура книги определена историей её создания. Д. Блюз стоял у истоков журнала «Dystopia» (ударение на 3-й слог), где активно публиковался, там впервые читатели и познакомились с «Россией в лице пятиэтажной хрущёвки», туда же Данила подтянул своего друга, «психореалиста» Вермутова. Д. Блюз уже успел прославиться пабликом «Магнитогорский обыватель», где он освещает жизнь родного М-ска через призму пивной бутылки, «зарева в колодце» и вредных испарений с местных заводов.
Таким образом, в основу данного артефакта легли статьи и эссе Д. Блюза и повесть К. Вермутова, давшая общее название детищу.
Пятиэтажная хрущёвка – метафора постсоветского пространства, как намекнул мне Капитан Очевидность. На каждом этаже по квартире, каждая квартира, а точнее её хозяин – определённая модель существования, а чаще всего – вымирания.
Начало многообещающее, одновременно оно и квинтэссенция авторского стиля.
Авторы не мнят себя гуру, душеспасителями, «очень культурными и оригинальными творческими личностями». Они и так ими являются: гуру похмельных зорь, спасателями своих беспредельных пространств, они очень культурные парни, потому как, по слухам, никогда не бросают окурков мимо урны.
Есть в ребятах что-то от старика Белинского. Уверен, что если бы не условности века XIX, а точнее – живи Виссарион Григорьевич в XX столетии, он бы писал как Л.-Ф. Селин, живи в нашем – он бы дебютировал с чем-нибудь наподобие «России в лице многоэтажной хрущёвки», которую написал бы в паре с Бакуниным.
О Вермутове и Блюзе, как и о Марксе с Энгельсом, сложно говорить в отрыве одного от другого. Может, в дальнейшем, из них выйдут новые Ильф с Петровым, братья Стругацкие или же братья Гонкуры. А может каждый пойдёт своей дорогой, предварительно закалившись в цеховом костре.
Если же по чесноку – вотчина у каждого из ребят своя. Блюз, например, гонзо-писец (это в противовес «борзописцам»). Вермутов – поэт-психореалист, как он себя сам кличет. Никаких журналистских штучек – тот случай, когда авторы сами придумывают ярлыки для себя.
Кому мои речи показались панегириком, я припас ложку говнеца.
Душеспасительные речи в конце данной книги мне показались излишними, особенно банально это самое «хочешь изменить мир – начни с себя». Ничего против данной максимы не имею, но единственный и главный ейный минус заключается в том, что она практически недостижима на практике (ха-ха!), по крайней мере, в деле изменения общества она непригодна, т. к. неспособна стать всеобщим императивом. Да и не писательское это дело – давать рецепты – оставьте подобные занятия Михаилу Веллеру. Дело писателя – ставить симптом, а не готовить припарки. С другой стороны – мне ли говорить, что дело для писателя, а что нет?!
Было бы откровенным жлобством плюс чёрной неблагодарностью не упомянуть об остальных создателях книги – о Никите Кафкианском (создателе и редакторе «Дистопии»), составителе книги и, как я понял, инициаторе издания оной в бумажном формате, о Тимоше Черниченко, предоставившем фотографии, ставшие не просто органичными иллюстрациями, но и равноправным текстом. И, естественно, об Анастасии Тюменцевой, выступившей редактором.
В общем, я устал.
Всё.
Где редактор?












1 отзыв
skvor пишет:
07 Июн 2014
Фрагмент: «Да и не писательское это дело – давать рецепты – оставьте подобные занятия Михаилу Веллеру. Дело писателя – ставить симптом, а не готовить припарки. С другой стороны – мне ли говорить, что дело для писателя, а что нет?!» — настолько великолепен, что я его перечитал несколько раз подряд. Нельзя разделить патетику, пунктуацию и упоминание сакрального имени Веллера.